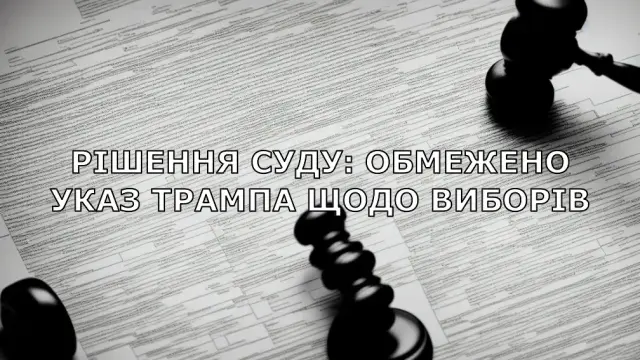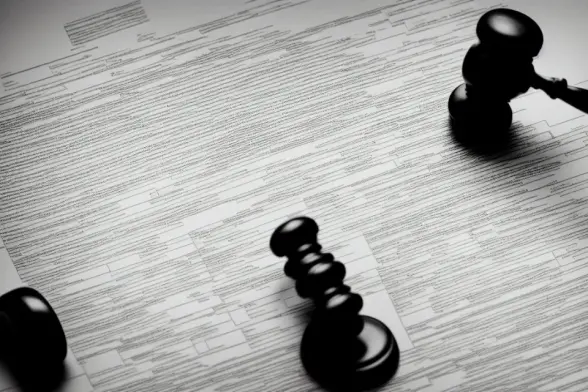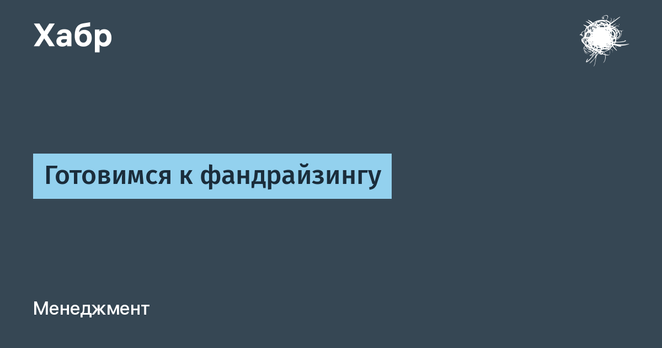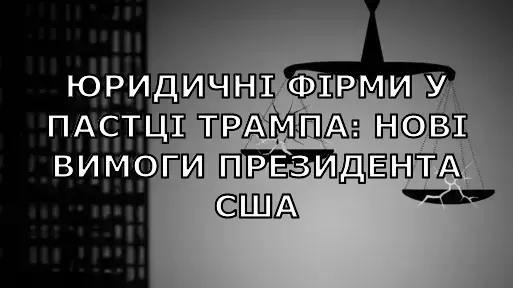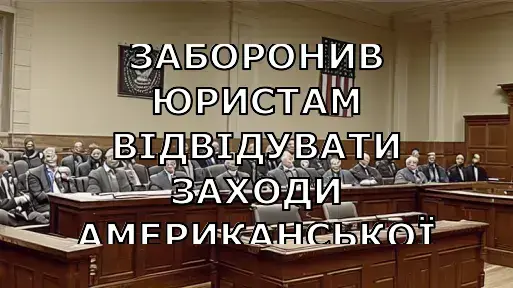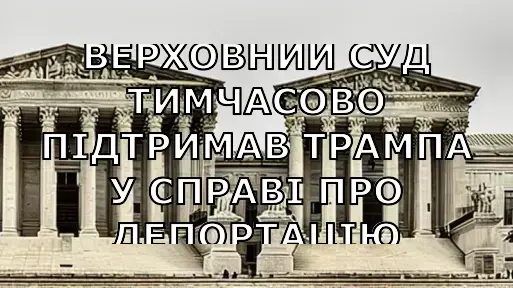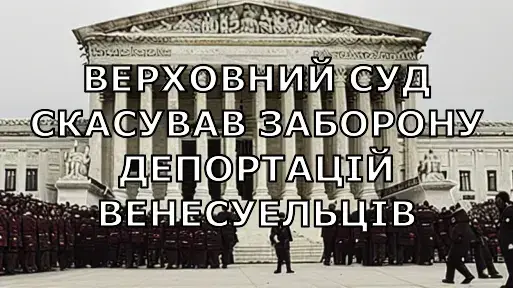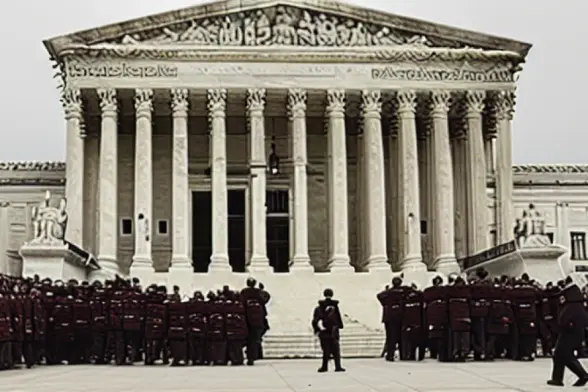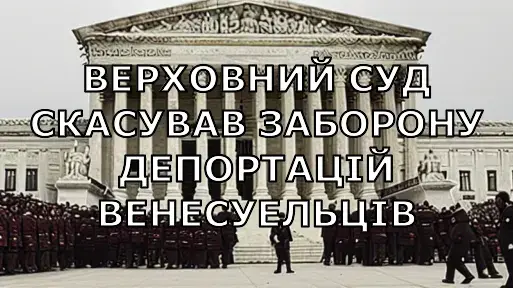Вопрос от Георгия Немова про неприсоединение к контрактным юрисдикциям
Смоделируем ситуацию:
Формируются территориальные и экстерриториальные контрактные юрисдикции, а также связывающий их децентрализованный кросс-арбитражный механизм. Естественное право продолжают поддерживать только религиозные или этические организации, в чьем понимании гарантом прав является Бог/карма. Таким образом, эти организации остаются единственными, кто гарантирует жизнь и свободу человека на территориях с населением, не вступившим в контрактное право. Может быть, эти люди маргинальны, разобщены, бедны или просто очень далеки от идей анкапа. И эти люди стекаются под защиту таких религиозных организаций.
1. Как ты считаешь, возможна ли такая ситуация?
2. Если да, то закономерен ли этот процесс и является ли он правовой обьективизацией человека?
3. Если это произошло, как следует поступить нашему союзу контрактных юрисдикций? Стоит ли воспринимать как угрозу, и как бороться? Или, наоборот, поддерживать?
Ответ Анкап-тян
1. Фактически, описывается достаточно обычный случай трайбализма. Пока одни люди в случае возникновения правовых коллизий рассчитывают на те организации, которые обязаны оказывать помощь по контракту, другие просто рассчитывают на помощь единоверцев/единомышленников. В этом нет ничего удивительного, сейчас в мире множество чрезвычайно децентрализованных сообществ по интересам, от автостопщиков и фехтовальщиков до либертарианцев и кришнаитов. Они уже сейчас как правило оказывают своим участникам первичную правовую помощь, особенно местные – приезжим. Не вижу, почему вдруг в нашем модельном мире с большей децентрализацией права эти механизмы должны выглядеть иначе.
2. Я отдаю себе отчёт в том, что мы с вами трактуем модельную ситуацию как-то по-разному. Вы скорее рассматриваете “юрисдикции” как организации, к которым человек юридически прикреплён, а тот, кто не прикреплён, находится как бы вне закона. Я скорее рассматриваю юрисдикции, как “области навязывания норм”, в которые человек может попадать как согласно контрактам, так и помимо них. А поскольку в модельной ситуации государства, как организации общей юрисдикции на своей территории, сходят с арены, то появляется огромное количество ситуаций, в которых юрисдикция заранее неизвестна. Если я трахаюсь в припаркованном напротив церкви автомобиле, то чья это юрисдикция? Владельца парковки? Церкви? Жены того, с кем я трахаюсь? Всё зависит от контекста. Если автомобиль неправильно припаркован, с нами разбирается владелец парковки. Если владелец парковки церковь, её сотрудник может предложить нам трахаться в другом месте и не отвлекать прихожан от благочестивых мыслей. Если у жены моего парня есть с ним договорённость, что между ними так не принято, то потребовать от меня сведений о том, насколько я была в курсе его занятости – вполне в её юрисдикции. А вот некая универсальная юрисдикция, которой есть дело до всего, и которая может диктовать свои нормы в любой сфере – это уже тёмное этатистское прошлое, в нашей модельной ситуации эти динозавры давно и бесславно сдохли.
3. Рассмотрим всё-таки ситуацию, когда, скажем, в некоей местности одни при конфликте звонят в свою страховую компанию, а другие пишут в тематический чатик “аларм, наших бьют!”, и с окрестностей начинают подтягиваться личности, готовые отстаивать интересы участника своего сообщества. Воспринимать ли подобное, как угрозу? А это зависит от того, какие интересы отстаивает сообщество в конфликте. Если настроено любой ценой в любом конфликте защитить своего, то это явная угроза, и условной страховой компании в подобных случаях важно быть готовой к войне с этой бандой. А если настроено погасить конфликт, то никаких проблем, это одна из важнейших функций сообществ. Человеку в них комфортно, но ради того, чтобы с них состоять, он мирится с тем, что другим участникам сообщества есть дело до его поведения. В этой ситуации с точки зрения страховой компании сообщество выступает “страховым кооперативом” и может рассматриваться как равный контрагент.